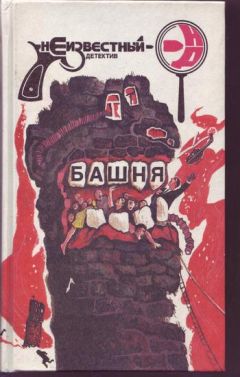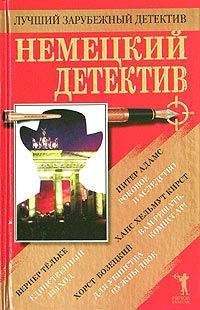Кого? Его? А почему бы и нет? Эта мысль доставляла удовольствие и возбуждала. По сравнению с этой титанической постройкой он всего лишь песчинка, но сила в его руках; шагая с сумкой инструмента в руках, прислушиваясь к звуку своих шагов и водовороту своих мыслей, эту силу он ощущал в полной мере.
* * *
Нат прошел пешком несколько кварталов, отделявших «Башню мира» от конторы Колдуэлла, и эта прогулка немного притушила его обиду и злость.
Однажды он сказал своей жене Зиб:
— Знаешь, почему мужчины так любят всякие игры? Потому что отвлекаются от мыслей о проблемах и вытесняют их в подсознание. А я вместо этого хожу пешком. Но не потому, что я против игры. Когда я был подростком, мы чем только не занимались! Ходили на рыбалку, на охоту, путешествовали по горам, пешком или на лошадях; зимой — походы на лыжах и коньки.
Он почувствовал, что говорит не то.
— Простая жизнь, — попытался он продолжить. — У меня все было не так, как у тебя. Я не слишком хорошо плаваю. Никогда не ходил под парусом. Не играю ни в гольф, ни в теннис.
А Зиб тогда ответила:
— Возможно, когда-то все это было для меня важно, но не сейчас. Я не потому вышла за тебя. Возможно, мне уже надоели и наскучили все эти университетские мальчики, с которыми я росла.
И тут она так улыбнулась, что он сразу растаял.
— Или скорее потому, что ты не попытался на первом же свидании затащить мня в постель.
— Такой уж я был несовременный. А тебя можно было уговорить?
— Нет, скорее всего нет. Но ты мне понравился.
— А ты меня восхищала и немного подавляла, ведь в своем кругу ты была такая самоуверенная…
«Это было правдой и осталось до сих пор, после трех лет супружества», — подумал он.
Он шел в ровном темпе, останавливаясь только на переходах. Он не любил город, но в городе кипит жизнь, и хотя здесь повсюду грязь, суета и толпы людей, распаренных и озлобленных, здесь в то же время вкус жизни, вдохновение и удовлетворение от того, что человек встречает равных себе и может с ними общаться.
Но важнее всего было то, что здесь жил Бен Колдуэлл, со своим взглядом художника и невероятным чувством детали, чувством, которое некоторые называют гениальностью. Семь лет, проведенных под руководством этого человека, стоили всего остального.
Но нет, в один прекрасный день Нат покинет город; это убеждение было у него органичным и глубоким. Назад в тот огромный мир, откуда он родом. Но когда настанет этот час, пойдет ли с ним Зиб, или решит остаться в своем кругу? Это трудно предсказать и неприятно об этом думать.
На Тауэр-плаза стояли полицейские. Нат посмотрел на них с удивлением, которое он сам тут же счел наивным, потому что в городе, где нет недостатка ни во взрывах бомб, ни в любом другом роде насилия, при таком торжестве, как открытие «Башни мира», не может не присутствовать полиция. Это только доказывает, что сегодня голова у него не работает.
У входа стоял чернокожий полицейский и слушал, что говорит ему огромный ирландец в униформе. Негр взглянул на Ната и приветливо улыбнулся.
— Что вам угодно, сэр?
Нат вынул пропуск со своей фамилией и должностью.
— Я архитектор, — сказал он. — Из фирмы Колдуэлл и К°.
Он показал на бронзовую доску у входа.
— Мне нужно там внутри кое на что взглянуть.
Негр перестал улыбаться.
— Что-то случилось? — Его взгляд быстро нырнул к пропуску, потом снова поднялся, и полицейский произнес: — Мистер Вильсон? — Теперь он уставился Нату прямо в лицо.
— Нет, это обычный обход, — сказал Нат и подумал: «Какого черта я разговариваю как персонаж из детектива».
— В эту минуту я уже начал сомневаться, — говорил позднее постовой Барнс, — но это еще было только неясное чувство, что, возможно, нам не стоило пропускать того типа с инструментальной сумкой. Но вы ведь сами знаете, что может последовать за неоправданным задержанием. Полиция превышает свои полномочия, накидывается на невинных граждан и тому подобное… Но лучше бы я прислушался к этому чувству.
Тогда же он ответил:
— Если что-нибудь не в порядке, мистер Вильсон, — то есть, если мы в состоянии помочь…
— Он хочет сказать, — вмешался полицейский-ирландец, — что наша цель, цель ребят в нашей форме, — помогать людям. Никто не может нас упрекнуть, что мы не пришли на помощь утопающему или не помогли старушке перейти через улицу. Мы всегда к вашим услугам.
И, сказав это, ирландец продолжил разговор об игре на скачках, — конкретно о том, любит ли это дело его коллега.
«Я не люблю, — сказал про себя Нат, входя внутрь. — Это явно мой очередной недостаток, потому что Зиб обожает лошадей, ставки на футбольных матчах, также как и пикники в Вест Пойнте перед матчем. Я скучный сухарь», — сказал он себе.
В вестибюле он заколебался. У него не было никакой определенной цели. Дорога к зданию, где он за последние пять лет провел почти все рабочие дни, была пройдена совершенно автоматически, что-то вроде позыва, заставляющего человека взглянуть в пустое стойло, хотя он уже знает, что его конь исчез и сделать ничего нельзя: так и он не мог ничего сделать, пока бригады рабочих не возьмутся за дело, не проверят, что заложено в стены, не сравнят со всеми извещениями на изменения и не выяснят, какие в конце концов изменения все-таки проведены.
Но он все равно уже был здесь, и потому Нат прошел пустым вестибюлем мимо ядра здания к шахтам лифтов и нажал кнопку местного лифта, ходившего до четырнадцатого этажа.
Лифт тронулся, и Нат услышал тихое гудение тросов. Индикатор засветился у четырнадцатого этажа и потом начал медленно, этаж за этажом спускаться вниз. Когда открылись двери, Нат вошел и вдруг остановился с пальцем на кнопке.
В пустотелом ядре здания, объединявшем все лифтовые шахты, он услышал слабое гудение тросов другого лифта.
Двери его кабины автоматически закрылись, и он очутился в полной темноте. Нащупал на панели выключатель, повернул его, потом замер и прислушался. Тихое гудение кабелей в ядре здания продолжалось. Потом оно прекратилось, и настала тишина.
«Ты можешь только гадать, — сказал он себе. Это может быть кто угодно, и на любом этаже, отсюда и до шпиля; ну и что? У тебя плохо с нервами, Натан Гейл; поддельные извещения на изменения выбили тебя из колеи. Перестань об этом думать», — приказал он себе. Нажал кнопку и лифт плавно тронулся.
На восьмом этаже он вышел из лифта и спустился по лестнице на второй из пяти технических этажей здания.
Именно здесь так же, как в подвале, на сорок пятом, восемьдесят пятом и сто двадцать третьем этажах, даже и посторонний мог до определенной степени понять безмерную сложность этого сооружения.
Там проходили кабели толщиной с ногу, по которым с ближайшей электростанции Кон Эдиссон поступало напряжение в четырнадцать тысяч вольт, — что было намного больше, чем напряжение, достаточное для казни на электрическом стуле.
Там мощные трансформаторы понижали напряжение до уровня, необходимого для отопления, кондиционеров, вентиляции и освещения всех вертикальных секций здания.
Запах этого замкнутого этажа напоминал запах машинного отделения корабля: это был запах разогретого металла и масла, резины и краски, отработанного воздуха, изоляции и сдержанно гудящих механизмов, подчинявшихся своему Богу — электричеству.
Электричество было неслышным — хотя трансформаторы тихо гудели — и незаметным. Но оно было основой жизни всего здания.
Без электричества это гигантское, сложнейшее сооружение совершенно беспомощно, это только мертвая громада тысяч и тысяч тонн стали и бетона, окон из закаленного стекла и алюминиевой обшивки, кабелей, труб, проводов и невероятно сложных механизмов.
Без электричества здание невозможно отапливать, освещать, проветривать, невозможно пользоваться его лифтами и эскалаторами, не работают системы автоматики и контрольные мониторы.
Без электричества здание слепнет и глохнет, немеет и задыхается — мертвый город в городе, памятник тщетности человеческой изобретательности, мечтаний и сомнительного жизненного опыта; Большая пирамида, Стоунхедж или камбоджийский Ангор Ват; — курьез и анахронизм.
Нат взглянул на главный электрический кабель, тщательно разведенный, чтобы он мог отдавать свою огромную энергию сюда и одновременно передавать ее без потерь на следующий технический этаж и так далее до самого верха башни. Здесь был сосредоточен жизненный центр Башни, как человеческое сердце, открытое для операции.
Нат вспомнил о конверте с поддельными изменениями, который лежал у него в кармане, и снова почувствовал, как его мозг застилает пелена неудержимой ярости.
Он понимал с трудом сдерживаемую ярость Гиддингса, потому что ее зародыши чувствовал в себе, и по той же причине: работа для него была чем-то святым.
![Ричард Штерн - Вздымающийся ад [Вздымающийся ад. Вам решать, комиссар!]](https://cdn.my-library.info/books/253607/253607.jpg)